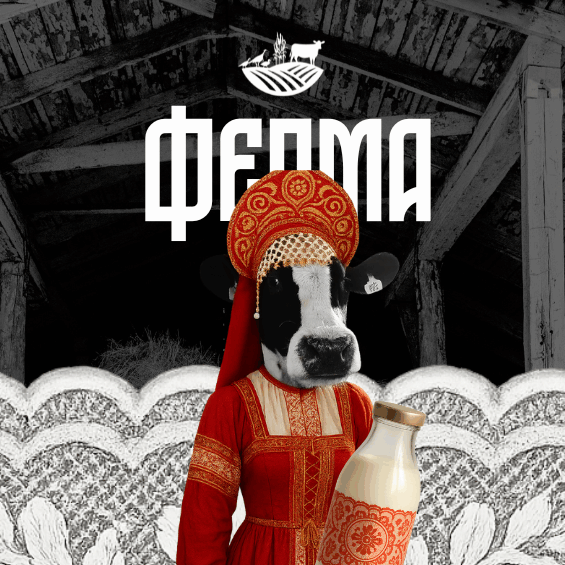Мы, конечно, не смогли проехать мимо — остановились. Подойдя ближе, поняли — это остатки храма. Разрушенные стены, вокруг тишина, только крики птиц под сводами. В проемах стояли маленькие иконы, словно свечи памяти, оставленные кем-то из местных.

Воздух здесь был особенный — влажный, тяжелый от времени, но будто пропитанный молитвой. Мы решили узнать больше о храме в местном музее. В небольшом зале с высокими потолками нас встретила женщина. Она сразу заговорила — неторопливо, словно рассказывая не просто о зданиях, а о людях, судьбах, времени.

У нас две церкви. Одна из них прямиком напротив, ее из окна видна. Она была построена в 1886 году. Без единого гвоздя! И стоит до сих пор. Эта церковь все пережила: и фашистов, и войну. Тут был и спортивный зал, и танцевальная площадка. Потом храм закрыли и снова открыли. Полы, говорят, те самые, старые. Батюшка у нас хороший, бережет каждую доску. Церковь — намоленная.
Экскурсовод достала старый чертеж — выцветший, но аккуратный, с подписью архитектора Мальгерба. Он ее не строил, но по его проекту сделали. Видите, вот такой храм был вначале. Мы немного приукрасили для выставки, но дух тот же остался. Голос женщины стал тише, когда речь зашла о другой — каменной церкви.
Это была красота неописуемая, — сказала она, показывая единственную сохранившуюся фотографию. — Построена в 1912 году, а камень заложили в 1908-м. Архитектор был человек строгий, каждый кирпич проверял: если звенит — годен, если нет — ломали. Все делалось с любовью. Казаки сами выбрали место, сами собирали деньги — 120 тысяч рублей! Для того времени — огромные средства.
Церковь сияла белым камнем и золотыми куполами
Храм пережил годы войны и оккупацию, однако в 1954-м его разрушили. Осталась лишь часть колокольни — та самая, что мы видели по дороге. Она теперь стоит одиноко, поросшая травой.
Сносить нельзя, — говорит экскурсовод. — Это памятник. Хотели восстановить хоть часовню, но все уперлось в деньги.
Женщина помолчала, провела пальцем по старой фотографии, где церковь сияла белым камнем и золотыми куполами.

Последний священник служил здесь до 1936 года, — продолжает женщина. — Его арестовали и расстреляли. Матушку сослали, заставили топить печи углем. Трое детей остались здесь, в станице. Люди не бросили, приютили. Позже она сбежала, вернулась, забрала детей.
В музее хранят фотографию их сына Семена Бублика, который долго жил в станице и часто рассказывал о храме.

В церкви была огромная библиотека. И в ней хранилась старая Библия, в которой было написано: «Настанет время, когда появится предмет, и люди будут смотреть в него, перестанут говорить друг с другом…». Телефон, наверное. Кроме того, когда храм разрушали, Дарохранительницу бросили в колодец. Спустя время ее нашли. Сейчас она хранится в музее имени Фелицына. Если будете — спросите. Она у нас настоящая святыня.
Загадайте желание, оно сбудется
На стене музейной комнаты — карта станицы Ивановской. Маленькие отметки показывают, где когда-то стояли колхозы, школы, и где, среди полей, возвышались церкви.
У нас раньше одиннадцать колхозов было, — рассказывает экскурсовод. — А еще, знаете ли, здесь находился Золотой Ордынский город — Шакрак. В 90-х даже раскопки велись. Нашли монеты, украшения, символ бесконечности — вот он и на нашем гербе теперь.
У выхода из музея стоит сосуд, наполненный зернами разных оттенков.
Девочкам — белое, мальчикам — бордовое, — улыбается женщина. — Загадайте желание и бросьте. Сбудется.
Мы выбрали по зернышку. Белое и бордовое упали в сосуд, тихо звякнув о стекло. Снаружи дождь уже стих. Мы отправились домой.

Простая философия жизни
Дорога домой вновь шла мимо дворов, утопающих в зелени. За деревянными заборами виднелись огороды, голые деревья, дым из печных труб. По обочине лениво бродили куры, перекликались петухи, вдалеке мычали коровы. Воздух густ от запаха травы и свежего сена — такой, каким он бывает только в станице.

Вот она, настоящая Кубань, — говорит кто-то из нас, глядя на широкий двор, где прямо у калитки важно вышагивает петух, словно хозяин.
Из-за ворот появляется мужчина — высокий, в поношенной рубашке. Он останавливается, смотрит на нас с легким удивлением, но без настороженности.

Можно вас сфотографировать с птицами? — спрашиваем мы.
Он усмехается:
— Если поймаете, то, пожалуйста.
Куры в этот момент, словно поняв, что речь идет о них, разбегаются кто куда — в траву, под старую тележку, к сену. Мы смеемся, но гоняться не решаемся. Мужчина качает головой, все так же улыбаясь.

Этих не поймаешь. Свободные они у меня, — говорит он и поднимает ладонь к глазам, будто прикрываясь от солнца.
— Пусть гуляют, где хотят.
Мы уезжаем дальше, а мужчина долго стоит у калитки, провожая нас взглядом.